Как Анна стала Анютой
Сценическая история чеховской «Анны на шее» получилась весьма богатой, хотя знаковых постановок рассказа на драматической сцене не известно. Зато музыкальный театр, пусть и под другим именем – Анюта, – вывел на подмостки прелестную героиню, танцующую свою одновременно печальную и блестящую судьбу.
Рассказ Антона Павловича Чехова «Анна на шее», написанный в 1895 году, не считается знаковым в творчестве писателя, однако все же оставил заметный след в искусстве. Этому способствовала и экранизация Исидора Анненского, и особенно балет «Анюта», поставленный Владимиром Васильевым вначале в телевизионном формате, а затем перенесенный на театральную сцену.
К слову, «Анюта» – название совсем другого чеховского произведения, рассказывающего об «эксплуатации женской души» [Берковский Н. Чехов – повествователь и драматург / Н. Берковский // О русской литературе: сб. статей. – М.: Художественная литература, 1985. – С. 239]. В нем скромная бедная девушка, «подруга до первого успеха», делит жизнь с молодыми людьми, воспринимающими ее как вещь: один, студент-медик, учит с ее помощью анатомию, другой берет в натурщицы. Уступчивая и добрая, она превращается в безгласное тело, и никто не видит в этом ничего ужасного. Проблематика же «Анны на шее» заключена в ином; в этом рассказе больше социальных мотивов, но тема «бессилия души» звучит и в нем.
Девушка из бедной интеллигентной семьи, в надежде поправить бедственное положение отца, спивающегося учителя, и малолетних братьев, выходит замуж за немолодого чиновника. Модест Алексеич солиден, неинтересен и прижимист, да еще и карьерист, лебезящий перед всяким вышестоящим в желании получить орден – ту самую «Анну на шею». Сперва юная жена боится супруга и ищет сочувствия и душевного отдыха у родных, но шумный успех на благотворительном балу меняет ситуацию, и вот уже у ног красавицы – букеты, подарки, высокопоставленные поклонники, а следом маячит бесчестие, небрежно прикрытое светской мишурой. Забыта семья, чье благосостояние подорвано бесповоротно, отброшены приличия, зато Анюта обрела свое мещанское счастье, скроенное по мерке покойной матери-гувернантки, а пожилой муж – прозвание болвана и вымечтанный орден. Модеста Алексеича, обрисованного с холодной брезгливостью, разумеется, ничуть не жаль, тогда как к его жене отношение сложнее.
Драма Анны, которую она совершенно не замечает и даже принимает за успех, обыденна, и в этом скрыто величайшее зло. Героиня сделала то, что на ее месте совершило бы большинство женщин того (да и другого тоже) времени, и в этом ее несомненная вина. Ведь, как замечал литературовед Исаак Гурвич, «несопротивляемость духовного организма – <…> коренной порок» [Гурвич И. Проза Чехова. – М.: Художественная литература, 1970. – С. 91]. В рассказе Чехов выявляет эту «беду и вину среднего человека», возникающую в хорошо знакомых обстоятельствах: «та же порочная – если не мещанская, то чиновничья – среда, та же внутренняя беззащитность и податливость человека, попавшего в эту среду, тот же процесс непроизвольного и, однако, неизбежного врастания в привычный уклад, та же история гибели безымянной, но живой души» [Там же. – С. 114]. Для гибели было много предпосылок, и писатель безжалостно и спокойно указывает на них, так что Анюте в финале трудно сочувствовать (в начале произведения девушку, приносящую в жертву заурядному пожилому мужу молодость и красоту, было жаль). Не то – в экранных трактовках, где акценты расставлены уже по-иному.
Впрочем, экранизация Якова Протазанова «Чины и люди» (1929), в которую «Анна на шее» входила как первая часть трилогии, заглавную героиню новеллы (Мария Стрелкова) не жалела. Но окружение девушки в лице омерзительного мужа (Михаил Тарханов) и привыкшего к вседозволенности чиновничества представало в таких черных красках, что на этом фоне и поведение Анюты было если не извинительно, то в целом объяснимо. Конечно, горестно было смотреть на ее отца и братьев, буквально выставленных из дома (пьянство главы семейства подавалось весьма деликатно), а лихой проезд красавицы в коляске с кавалером вызывал досаду, но не в легкомысленную особу целился режиссер.
Спустя четверть века Исидор Анненский в своей картине также осуждал в первую очередь среду и только затем Анну (Алла Ларионова). «Утрируя образы чиновников, Анненский извлекает их из “чеховских сумерек” и помещает в балаганчик Салтыкова-Щедрина» [Гришин Б. Проверено временем / Б. Гришин // Культура. – 2014. – № 16. – С. 12]. В исполнении актрисы героиня получилась серьезной, глубокой, страдающей и тонко чувствующей («Как я несчастна!» – восклицает она, глядя на нетрезвого отца, заявляющего о своих правах главы дома). Ей хотелось вырваться из давящей среды, как затем – из мужниного богатого особняка, где все размерено и скупо и еще тошнее, чем раньше. Девушка ошиблась, угодив в рабство к глупому скряге (Владимир Владиславский окарикатуривал образ, используя сатирические приемы). И вдруг – ветром свободы повеяло на нее на шумном балу, где она действительно предстала «юной Афродитой», веселой, счастливой, кружащей всем голову. Как не понять ее превращения в жестокую барыню, лихо мчащуюся на тройке в то время, как ее отца и братьев выставляют из квартиры на мороз? Не то чтобы сочувствие испытывает зритель в отношении Анюты, но не осуждение – совершенно точно.
Нельзя сказать, что Чехов жесток к своей героине, но его рассказ суше и сдержаннее фильма 1954 года, в нем есть детали, не позволяющие однозначно встать на ее сторону. Обаяние, красота и сила Аллы Ларионовой превратили ее экранную Анну в нечто совсем иное, нежели у автора, но этот образ определенно остался в истории киноискусства. Как писал критик, артистка «создает совсем другой образ – умной, глубокой и сильной женщины, которая внутренне остается выше обстоятельств. Эффектная внешность, жизнелюбие и энергия двадцатитрехлетней актрисы позволяли ей доминировать в кадре. Словно озорная цирковая наездница, ларионовская Анна галопирует по жизни, а за ней наперегонки несутся неуклюжие и жеманные клоуны» [Там же].
Кинематографисты чувствовали несентиментальность чеховского рассказа. Каждый из режиссеров интерпретировал ее по-своему: Протазанов нападал на среду и чиновничество, Анненский подчеркивал внутреннюю силу героини, возвышающую ее над неприглядным окружением, пусть и не освобождающую до конца. Однако в другое время – почти через три десятка лет после фильма с Аллой Ларионовой – зритель захотел менее жесткой интонации. В 1982 году мягкий тон воспринимался как более соответствующий авторской манере, да и природа таланта Владимира Васильева была иной, нежели у его предшественников. И телебалет «Анюта», поставленный им в тандеме с Александром Белинским, звучал лиричнее, с большей симпатией к Анне, недаром сменившей полное имя на ласкательное.
Перед зрителем предстала молодая девушка-полуребенок, с детской покорностью примеряющая фату к свадьбе с нелюбимым. В ее жертве нет трагедии – настолько ситуация привычна в провинциальной среде, где кавалеры и дамы чинно прогуливаются по бульварам, щеголяя обновкой, или удачной партией, или орденом. Да здесь ведь жену вряд ли ценят выше правительственной награды. На фоне этой мещанской ярмарки тщеславия Анюта (Екатерина Максимова) кажется единственным живым человеком. Она весело резвится с маленькими братьями, хотя семья еще не отбыла траур: на них черная одежда, и с грустной улыбкой смотрит на детей их красивый отец (Владимир Васильев).
Постановщики смягчают чеховскую историю, делая ее сентиментальнее. Так, в повествование введен Студент (Марат Даукаев) – возлюбленный Анюты, от которого она вынужденно отказывается, чтобы помочь бедной семье. Героиня приносит в жертву не только собственную свободу, но и любовь – как ее не пожалеть? Да и тяга отца к спиртному не производит угнетающего впечатления, тогда как в рассказе явно ощущалось, что девушке все равно бы пришлось искать способы вырваться из тягостной домашней обстановки. Ретроспективная зарисовка о детстве маленькой Анны подана в умилительном ключе: покойная мать учит девочку танцевать, к ним присоединяется счастливый отец – идиллия! «Эти танцы – обучение женскому кокетству, бальной грации, очаровательному притворству. Все трое счастливы в этой чуть жеманной идиллии веселого, славного кукольного дома, где мама с папой – в чем-то простодушные дети, а дочь – любимая нарядная кукла» [Львов-Анохин Б. По законам хореографии и кино / Б. Львов-Анохин // Музыкальная жизнь. – 1982. – №16. – С. 8]. Автор же не так благостно смотрел на материнские методы воспитания: «Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать напрокат bijoux и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно».
Собственно, из этого умения «принимать красивые позы» и возникла потом героиня, которая «всё каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала, и всё реже и реже бывала у своих». Васильев и Белинский подчеркивают невинность этого полудетского кокетства: для их Анюты «естественна жажда веселья, свободы, успеха» [Львов-Анохин Б. По законам хореографии и кино / Б. Львов-Анохин // Музыкальная жизнь. – 1982. – №16. – С. 8]. Не так уж плох и Модест Алексеевич (Гали Абайдулов), даже трогательный в своем горячем желании получить заветную «Анну» на шею. Он, безусловно, тщеславен и важен, любит чувствовать свою значимость (вспомним его знаменитый проход по департаменту, когда к ногам героя падают раболепно согнувшиеся подчиненные), но есть нечто детское в его мечте об ордене, предстающем ему во сне как величайшее явление в серой жизни. Маленькая фигурка кажется такой хрупкой и жалкой в широкой ночной рубахе, что странно представлять Аниного мужа как тирана, заевшего ее молодой век.
Ее бальный триумф – не счастье, дарованное судьбой в награду за тяготы и лишения, а нежданный подарок, упавший в протянутые девичьи руки. Анюте 18 лет, ей нужно танцевать, взлетать под потолок, блистать в свете роскошных ламп, пить шампанское и кружить головы. Закружилась и ее голова, да так, что забыт и студент, и отец, и братья… Она вспомнит обо всех на катке, где, развлекаясь то с эффектным статным красавцем Артыновым (Джон Марковский), то с импозантным его сиятельством (Анатолий Гридин), вдруг заметит родных, жмущихся у ограды. Крупный план, выхватывающий взгляд героини, слезу, катящуюся по щеке, словно намекает, что финал этой истории может быть не чеховским. Эта девушка, увлекшаяся успехом, может переменить образ жизни, бросить катание на тройках и начать помогать семье. Однако постановщики ограничиваются этим ненавязчивым намеком, не споря с автором.
Так «Анюта», оставаясь экранизацией чеховского произведения, стала и новым его прочтением, и новым словом в жанре телебалета. Причем его предыдущий новаторский этап также связан с Александром Белинским, поставившим с балетмейстером Дмитрием Брянцевым сегодня уже признанные классикой «Галатею» и «Старое танго». В адаптации чеховского рассказа удачно найденные приемы получили дальнейшее развитие, а пантомима и актерская игра приобрели особое значение. Перед зрителем предстала «целая звуковая картина провинциальной жизни с ее тягучим, мерным темпом ежевечерних променадов горожан над речным откосом, где на фоне заречных далей живописно и выразительно встает хмурая голубизна соборных куполов» [Луцкая Е. По-чеховски / Е. Луцкая // Театральная жизнь. – 1982. – №7. – С. 25].
Камерный телебалет воспринимается целостно, в нем органично сочетаются драматические эпизоды с танцевальными, а жест «не является условным эквивалентом отсутствующего слова, а выражает естественное поведение человека, когда он думает, вспоминает или совершает простые действия, не требующие словесной расшифровки» [Львов-Анохин Б. По законам хореографии и кино / Б. Львов-Анохин // Музыкальная жизнь. – 1982. – №16. – С. 8]. Он создан в своем уникальном жанре, интересном до сих пор, и неизбежно теряет часть своей силы при переносе на сцену. И все же этот перенос был осуществлен – и это тоже совершенно естественно.
К слову, «Анюта» – название совсем другого чеховского произведения, рассказывающего об «эксплуатации женской души» [Берковский Н. Чехов – повествователь и драматург / Н. Берковский // О русской литературе: сб. статей. – М.: Художественная литература, 1985. – С. 239]. В нем скромная бедная девушка, «подруга до первого успеха», делит жизнь с молодыми людьми, воспринимающими ее как вещь: один, студент-медик, учит с ее помощью анатомию, другой берет в натурщицы. Уступчивая и добрая, она превращается в безгласное тело, и никто не видит в этом ничего ужасного. Проблематика же «Анны на шее» заключена в ином; в этом рассказе больше социальных мотивов, но тема «бессилия души» звучит и в нем.
Девушка из бедной интеллигентной семьи, в надежде поправить бедственное положение отца, спивающегося учителя, и малолетних братьев, выходит замуж за немолодого чиновника. Модест Алексеич солиден, неинтересен и прижимист, да еще и карьерист, лебезящий перед всяким вышестоящим в желании получить орден – ту самую «Анну на шею». Сперва юная жена боится супруга и ищет сочувствия и душевного отдыха у родных, но шумный успех на благотворительном балу меняет ситуацию, и вот уже у ног красавицы – букеты, подарки, высокопоставленные поклонники, а следом маячит бесчестие, небрежно прикрытое светской мишурой. Забыта семья, чье благосостояние подорвано бесповоротно, отброшены приличия, зато Анюта обрела свое мещанское счастье, скроенное по мерке покойной матери-гувернантки, а пожилой муж – прозвание болвана и вымечтанный орден. Модеста Алексеича, обрисованного с холодной брезгливостью, разумеется, ничуть не жаль, тогда как к его жене отношение сложнее.
Драма Анны, которую она совершенно не замечает и даже принимает за успех, обыденна, и в этом скрыто величайшее зло. Героиня сделала то, что на ее месте совершило бы большинство женщин того (да и другого тоже) времени, и в этом ее несомненная вина. Ведь, как замечал литературовед Исаак Гурвич, «несопротивляемость духовного организма – <…> коренной порок» [Гурвич И. Проза Чехова. – М.: Художественная литература, 1970. – С. 91]. В рассказе Чехов выявляет эту «беду и вину среднего человека», возникающую в хорошо знакомых обстоятельствах: «та же порочная – если не мещанская, то чиновничья – среда, та же внутренняя беззащитность и податливость человека, попавшего в эту среду, тот же процесс непроизвольного и, однако, неизбежного врастания в привычный уклад, та же история гибели безымянной, но живой души» [Там же. – С. 114]. Для гибели было много предпосылок, и писатель безжалостно и спокойно указывает на них, так что Анюте в финале трудно сочувствовать (в начале произведения девушку, приносящую в жертву заурядному пожилому мужу молодость и красоту, было жаль). Не то – в экранных трактовках, где акценты расставлены уже по-иному.
Впрочем, экранизация Якова Протазанова «Чины и люди» (1929), в которую «Анна на шее» входила как первая часть трилогии, заглавную героиню новеллы (Мария Стрелкова) не жалела. Но окружение девушки в лице омерзительного мужа (Михаил Тарханов) и привыкшего к вседозволенности чиновничества представало в таких черных красках, что на этом фоне и поведение Анюты было если не извинительно, то в целом объяснимо. Конечно, горестно было смотреть на ее отца и братьев, буквально выставленных из дома (пьянство главы семейства подавалось весьма деликатно), а лихой проезд красавицы в коляске с кавалером вызывал досаду, но не в легкомысленную особу целился режиссер.
Спустя четверть века Исидор Анненский в своей картине также осуждал в первую очередь среду и только затем Анну (Алла Ларионова). «Утрируя образы чиновников, Анненский извлекает их из “чеховских сумерек” и помещает в балаганчик Салтыкова-Щедрина» [Гришин Б. Проверено временем / Б. Гришин // Культура. – 2014. – № 16. – С. 12]. В исполнении актрисы героиня получилась серьезной, глубокой, страдающей и тонко чувствующей («Как я несчастна!» – восклицает она, глядя на нетрезвого отца, заявляющего о своих правах главы дома). Ей хотелось вырваться из давящей среды, как затем – из мужниного богатого особняка, где все размерено и скупо и еще тошнее, чем раньше. Девушка ошиблась, угодив в рабство к глупому скряге (Владимир Владиславский окарикатуривал образ, используя сатирические приемы). И вдруг – ветром свободы повеяло на нее на шумном балу, где она действительно предстала «юной Афродитой», веселой, счастливой, кружащей всем голову. Как не понять ее превращения в жестокую барыню, лихо мчащуюся на тройке в то время, как ее отца и братьев выставляют из квартиры на мороз? Не то чтобы сочувствие испытывает зритель в отношении Анюты, но не осуждение – совершенно точно.
Нельзя сказать, что Чехов жесток к своей героине, но его рассказ суше и сдержаннее фильма 1954 года, в нем есть детали, не позволяющие однозначно встать на ее сторону. Обаяние, красота и сила Аллы Ларионовой превратили ее экранную Анну в нечто совсем иное, нежели у автора, но этот образ определенно остался в истории киноискусства. Как писал критик, артистка «создает совсем другой образ – умной, глубокой и сильной женщины, которая внутренне остается выше обстоятельств. Эффектная внешность, жизнелюбие и энергия двадцатитрехлетней актрисы позволяли ей доминировать в кадре. Словно озорная цирковая наездница, ларионовская Анна галопирует по жизни, а за ней наперегонки несутся неуклюжие и жеманные клоуны» [Там же].
Кинематографисты чувствовали несентиментальность чеховского рассказа. Каждый из режиссеров интерпретировал ее по-своему: Протазанов нападал на среду и чиновничество, Анненский подчеркивал внутреннюю силу героини, возвышающую ее над неприглядным окружением, пусть и не освобождающую до конца. Однако в другое время – почти через три десятка лет после фильма с Аллой Ларионовой – зритель захотел менее жесткой интонации. В 1982 году мягкий тон воспринимался как более соответствующий авторской манере, да и природа таланта Владимира Васильева была иной, нежели у его предшественников. И телебалет «Анюта», поставленный им в тандеме с Александром Белинским, звучал лиричнее, с большей симпатией к Анне, недаром сменившей полное имя на ласкательное.
Перед зрителем предстала молодая девушка-полуребенок, с детской покорностью примеряющая фату к свадьбе с нелюбимым. В ее жертве нет трагедии – настолько ситуация привычна в провинциальной среде, где кавалеры и дамы чинно прогуливаются по бульварам, щеголяя обновкой, или удачной партией, или орденом. Да здесь ведь жену вряд ли ценят выше правительственной награды. На фоне этой мещанской ярмарки тщеславия Анюта (Екатерина Максимова) кажется единственным живым человеком. Она весело резвится с маленькими братьями, хотя семья еще не отбыла траур: на них черная одежда, и с грустной улыбкой смотрит на детей их красивый отец (Владимир Васильев).
Постановщики смягчают чеховскую историю, делая ее сентиментальнее. Так, в повествование введен Студент (Марат Даукаев) – возлюбленный Анюты, от которого она вынужденно отказывается, чтобы помочь бедной семье. Героиня приносит в жертву не только собственную свободу, но и любовь – как ее не пожалеть? Да и тяга отца к спиртному не производит угнетающего впечатления, тогда как в рассказе явно ощущалось, что девушке все равно бы пришлось искать способы вырваться из тягостной домашней обстановки. Ретроспективная зарисовка о детстве маленькой Анны подана в умилительном ключе: покойная мать учит девочку танцевать, к ним присоединяется счастливый отец – идиллия! «Эти танцы – обучение женскому кокетству, бальной грации, очаровательному притворству. Все трое счастливы в этой чуть жеманной идиллии веселого, славного кукольного дома, где мама с папой – в чем-то простодушные дети, а дочь – любимая нарядная кукла» [Львов-Анохин Б. По законам хореографии и кино / Б. Львов-Анохин // Музыкальная жизнь. – 1982. – №16. – С. 8]. Автор же не так благостно смотрел на материнские методы воспитания: «Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать напрокат bijoux и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно».
Собственно, из этого умения «принимать красивые позы» и возникла потом героиня, которая «всё каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала, и всё реже и реже бывала у своих». Васильев и Белинский подчеркивают невинность этого полудетского кокетства: для их Анюты «естественна жажда веселья, свободы, успеха» [Львов-Анохин Б. По законам хореографии и кино / Б. Львов-Анохин // Музыкальная жизнь. – 1982. – №16. – С. 8]. Не так уж плох и Модест Алексеевич (Гали Абайдулов), даже трогательный в своем горячем желании получить заветную «Анну» на шею. Он, безусловно, тщеславен и важен, любит чувствовать свою значимость (вспомним его знаменитый проход по департаменту, когда к ногам героя падают раболепно согнувшиеся подчиненные), но есть нечто детское в его мечте об ордене, предстающем ему во сне как величайшее явление в серой жизни. Маленькая фигурка кажется такой хрупкой и жалкой в широкой ночной рубахе, что странно представлять Аниного мужа как тирана, заевшего ее молодой век.
Ее бальный триумф – не счастье, дарованное судьбой в награду за тяготы и лишения, а нежданный подарок, упавший в протянутые девичьи руки. Анюте 18 лет, ей нужно танцевать, взлетать под потолок, блистать в свете роскошных ламп, пить шампанское и кружить головы. Закружилась и ее голова, да так, что забыт и студент, и отец, и братья… Она вспомнит обо всех на катке, где, развлекаясь то с эффектным статным красавцем Артыновым (Джон Марковский), то с импозантным его сиятельством (Анатолий Гридин), вдруг заметит родных, жмущихся у ограды. Крупный план, выхватывающий взгляд героини, слезу, катящуюся по щеке, словно намекает, что финал этой истории может быть не чеховским. Эта девушка, увлекшаяся успехом, может переменить образ жизни, бросить катание на тройках и начать помогать семье. Однако постановщики ограничиваются этим ненавязчивым намеком, не споря с автором.
Так «Анюта», оставаясь экранизацией чеховского произведения, стала и новым его прочтением, и новым словом в жанре телебалета. Причем его предыдущий новаторский этап также связан с Александром Белинским, поставившим с балетмейстером Дмитрием Брянцевым сегодня уже признанные классикой «Галатею» и «Старое танго». В адаптации чеховского рассказа удачно найденные приемы получили дальнейшее развитие, а пантомима и актерская игра приобрели особое значение. Перед зрителем предстала «целая звуковая картина провинциальной жизни с ее тягучим, мерным темпом ежевечерних променадов горожан над речным откосом, где на фоне заречных далей живописно и выразительно встает хмурая голубизна соборных куполов» [Луцкая Е. По-чеховски / Е. Луцкая // Театральная жизнь. – 1982. – №7. – С. 25].
Камерный телебалет воспринимается целостно, в нем органично сочетаются драматические эпизоды с танцевальными, а жест «не является условным эквивалентом отсутствующего слова, а выражает естественное поведение человека, когда он думает, вспоминает или совершает простые действия, не требующие словесной расшифровки» [Львов-Анохин Б. По законам хореографии и кино / Б. Львов-Анохин // Музыкальная жизнь. – 1982. – №16. – С. 8]. Он создан в своем уникальном жанре, интересном до сих пор, и неизбежно теряет часть своей силы при переносе на сцену. И все же этот перенос был осуществлен – и это тоже совершенно естественно.
После экранной премьеры 1982 года критик писал о том, что «хотелось бы увидеть балерину в столь же масштабной партии на сцене Большого театра» [Луцкая Е. По-чеховски / Е. Луцкая // Театральная жизнь. – 1982. – №7. – С. 26]. Однако премьера состоялась на другой сцене – неапольской. Владимир Васильев не планировал театральную версию балета, но через несколько лет после показа картины («Анюту» увидели зрители 114 стран, телебалет получил приз Интервидения на Международном телевизионном фестивале «Злата Прага» (1982) и Золотой приз X Всесоюзного телефестиваля в Алма-Ате (1983)) генеральный директор Театра «Сан-Карло» Франческо Канесса предложил ему постановку. Успех был большим, спектакль признали лучшим в Италии в 1986 году, хотя работа над ним потребовала решения многих сложных вопросов.
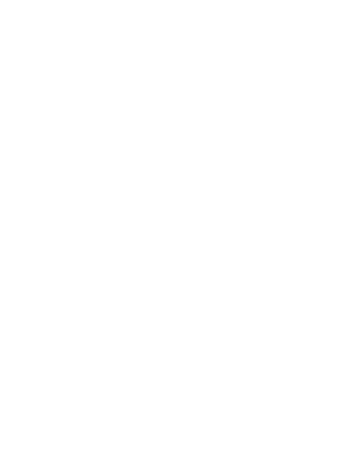
В сценической версии балета два действия и 15 картин. Для переноса спектакля с экрана понадобилась дополнительная музыка, родились новые эпизоды и герои, расширился список кордебалетных партий. Телебалет родился с «Вальса» Валерия Гаврилина, его музыкальную ткань из разрозненных произведений создавали Васильев и Белинский, а оркестровал выбранные ими фортепианные сочинения Станислав Горковенко. Он же помог в подготовке итальянской постановки, став ее музыкальным руководителем. Художником также вновь стала Белла Маневич. Восторженные отзывы прессы, «долетевшие» до Москвы, предрешили дальнейшую судьбу «Анюты».
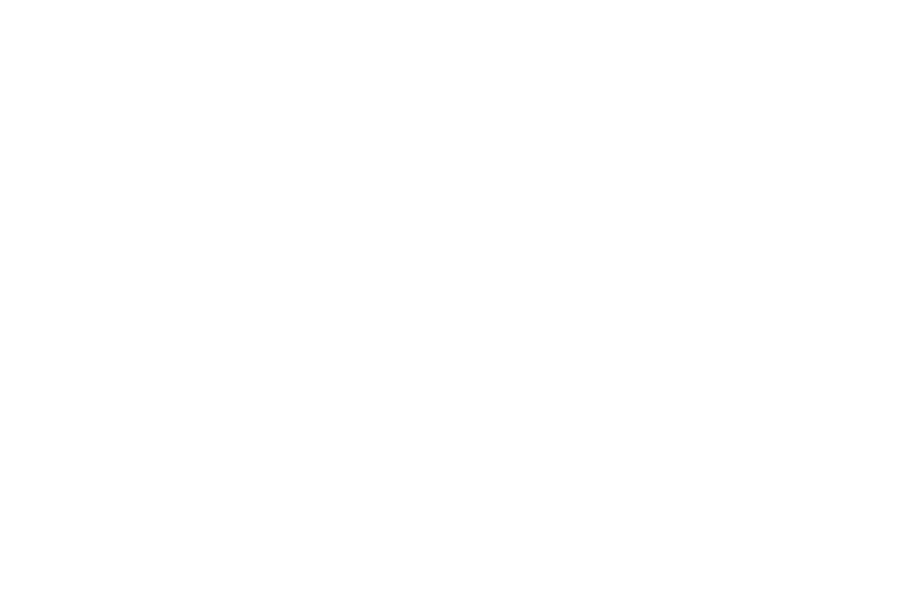
Большой театр после некоторой паузы тоже решился на постановку, правда, делать ее пришлось в спешке, всего за месяц. 31 мая 1986 года состоялась премьера с Екатериной Максимовой, Владимиром Васильевым, Михаилом Цивиным (Модест Алексеевич), Михаилом Лавровским (Артынов) и Валерием Анисимовым (Студент) в главных ролях. Постановка несколько отличалась от той, что была представлена в Сан-Карло, поскольку небольшая сцена итальянского театра не предоставляла создателям возможностей сцены московской. Но и здесь спектакль «оказался так понятен и желанен сегодняшним зрителям», ведь в нем ощущалась «созвучность духовному миру современника, гуманизм…» [Самсонова С. Знакомьтесь: «Анюта» / С. Самсонова // Правда. – 16 июня 1986].
Как и в телеверсии, главной сценической удачей стала заглавная роль Екатерины Максимовой. По словам критика, балерина «прослеживает постепенный процесс внутренней гибели и опустошения прелестного, естественного существа, искажения и умертвления чистой души, показывает, как искренняя, очаровательная девушка-полуребенок постепенно становится царицей Обывательского Бала, как в забытье угарного веселья, триумфально поднятая ввысь руками пошлых поклонников, она теряет способность чувствовать и сочувствовать даже отцу, даже маленьким братьям» [Львов-Анохин Б. / Б. Львов-Анохин // Известия. – 7 июня 1986]. В те годы о постановке Васильева говорили горячо и благожелательно, зрители очень любили лирическую «Анюту» с ее простым трогательным сюжетом, ярко обрисованными характерами и понятными идеями.
Но уже в конце 1990-х о ценности балета для искусства отзывались со скепсисом: «Его художественная актуальность, вопреки неизбывным достоинствам музыки Гаврилина, давно просрочена» [Яковлева Ю. Отец затмил свою дочь / Ю. Яковлева // Культура. – 1999. – №34. – С. 10]. Прима Большого театра Светлана Лунькина казалась строгим критикам лишь «приятной молодой артисткой с пикантным личиком» [Там же], а сюжет воспринимался как не заслуживающий внимания. Впрочем, то был столичный взгляд, а региональный зритель с удовольствием смотрел постановку Васильева.
В 2008 году премьера состоялась в Воронежском театре оперы и балета. «”Анюта” – негромкий спектакль-рассказ без назидательных выводов и морали <…>, в котором умеют сопереживать и несуетно рассказывать, в сущности, простую жизненную ситуацию, которая, как ни парадоксально звучит, держится на остром сочувствии людскому горю» [Федоренко Е. Листок на ветру / Е. Федоренко // Культура. – 2008. – №5. – С. 13]. Пресса точно замечала, что в этом балете важен не столько танец, сколько актерское мастерство исполнителей и их человеческое включение в непритязательную чеховскую историю. В заглавной партии выступила Татьяна Фролова, взявшая «тему женской сломленной судьбы», сделавшая «эмоции и полутона подчеркнуто зримыми, словно осуждая героиню за компромисс» [Там же]. С тех пор художником-постановщиком «Анюты» стал Виктор Вольский, представивший новый взгляд на историю.
Как и в телеверсии, главной сценической удачей стала заглавная роль Екатерины Максимовой. По словам критика, балерина «прослеживает постепенный процесс внутренней гибели и опустошения прелестного, естественного существа, искажения и умертвления чистой души, показывает, как искренняя, очаровательная девушка-полуребенок постепенно становится царицей Обывательского Бала, как в забытье угарного веселья, триумфально поднятая ввысь руками пошлых поклонников, она теряет способность чувствовать и сочувствовать даже отцу, даже маленьким братьям» [Львов-Анохин Б. / Б. Львов-Анохин // Известия. – 7 июня 1986]. В те годы о постановке Васильева говорили горячо и благожелательно, зрители очень любили лирическую «Анюту» с ее простым трогательным сюжетом, ярко обрисованными характерами и понятными идеями.
Но уже в конце 1990-х о ценности балета для искусства отзывались со скепсисом: «Его художественная актуальность, вопреки неизбывным достоинствам музыки Гаврилина, давно просрочена» [Яковлева Ю. Отец затмил свою дочь / Ю. Яковлева // Культура. – 1999. – №34. – С. 10]. Прима Большого театра Светлана Лунькина казалась строгим критикам лишь «приятной молодой артисткой с пикантным личиком» [Там же], а сюжет воспринимался как не заслуживающий внимания. Впрочем, то был столичный взгляд, а региональный зритель с удовольствием смотрел постановку Васильева.
В 2008 году премьера состоялась в Воронежском театре оперы и балета. «”Анюта” – негромкий спектакль-рассказ без назидательных выводов и морали <…>, в котором умеют сопереживать и несуетно рассказывать, в сущности, простую жизненную ситуацию, которая, как ни парадоксально звучит, держится на остром сочувствии людскому горю» [Федоренко Е. Листок на ветру / Е. Федоренко // Культура. – 2008. – №5. – С. 13]. Пресса точно замечала, что в этом балете важен не столько танец, сколько актерское мастерство исполнителей и их человеческое включение в непритязательную чеховскую историю. В заглавной партии выступила Татьяна Фролова, взявшая «тему женской сломленной судьбы», сделавшая «эмоции и полутона подчеркнуто зримыми, словно осуждая героиню за компромисс» [Там же]. С тех пор художником-постановщиком «Анюты» стал Виктор Вольский, представивший новый взгляд на историю.
Постановка до сих пор в репертуаре, но уже с другими артистами на ведущих ролях. В заглавной партии – Юлия Непомнящая, которой помогала вводиться Татьяна Фролова. «У Татьяны Александровны был огромный опыт. Мне многое нравилось в ее исполнении, что-то я копировала в силу своего тогдашнего возраста. Но в то время я уже понимала, что у меня получаются драматические роли, требующие развития образа. Моя героиня проходит путь от девочки к женщине, понявшей, что вышла замуж не по любви, а потому ищущей способ себя развлечь и повысить самооценку. Анюта бунтарка, но она знает, что, даже внутренне не соглашаясь с происходящим, не сможет найти выхода. Да и выбора у нее тоже нет», – говорит балерина.
В течение нескольких лет работая над образом, она так определяет мотивацию своей героини: «На балу она вдруг поняла, что взгляды всех обращены на нее одну, и теперь она может играть мужчинами, как хочет. Мне кажется, Анюта уже не вернется в прошлую жизнь. Ведь то, что с ней произошло, стало возможным потому, что отец фактически вынудил ее продаться. Она вспоминает свое детство, уход мамы, житье с братьями, безденежье, пьянство отца, страх перед будущим – и не то чтобы не может простить, но чувствует, что безвозвратно стала другой. Она себя уже сломала, приноровилась к ситуации. Да, ей жаль семьи, но она помнит о предательстве».
Наверняка свою убедительную интерпретацию – возможно, и совсем иную – могли бы предложить балерины, исполняющие эту партию на других сценах. В 2009 году «Анюта» появилась и в афише Красноярского театра оперы и балета. Премьеру тогда танцевала Анна Оль, выбранная для заглавной партии самим постановщиком. С 2015 «спектакль-долгожитель прописался и в Уфе. Хореограф Владимир Васильев каждый раз добавляет в текст новые пластические степени и нюансы, расширяя смыслы и значения своей знаменитой работы» [Федоренко Е. Танцы перед саммитом / Е. Федоренко // Культура. – 2015. – №12. – С. 11]. И здесь балет выявил самые сильные актерские стороны исполнителей, позволил расширить контекст восприятия. «Ветреной Анюте – Гузель Сулеймановой, балерине умной и точной, “гордая, свободная, самоуверенная” жизнь пришлась по вкусу, и она существует в ней как рыба в воде. Героиня Гульсины Мавлюкасовой трогательно заигралась в шумном светском веселье – так, что невеселый финал настигает ее врасплох. Когда выброшенный из дома отец (Вячеслав Журавлев) с пронзительно беззащитными детьми провожает закружившуюся в любовной метели Анюту, она забывает о них, как забывают о преданном Фирсе бывшие владельцы вишневого сада» [Там же]. Очевидно, что у каждой артистки – своя трактовка, и зритель вправе выбирать, сочувствовать ему героине или осуждать ее.
В течение нескольких лет работая над образом, она так определяет мотивацию своей героини: «На балу она вдруг поняла, что взгляды всех обращены на нее одну, и теперь она может играть мужчинами, как хочет. Мне кажется, Анюта уже не вернется в прошлую жизнь. Ведь то, что с ней произошло, стало возможным потому, что отец фактически вынудил ее продаться. Она вспоминает свое детство, уход мамы, житье с братьями, безденежье, пьянство отца, страх перед будущим – и не то чтобы не может простить, но чувствует, что безвозвратно стала другой. Она себя уже сломала, приноровилась к ситуации. Да, ей жаль семьи, но она помнит о предательстве».
Наверняка свою убедительную интерпретацию – возможно, и совсем иную – могли бы предложить балерины, исполняющие эту партию на других сценах. В 2009 году «Анюта» появилась и в афише Красноярского театра оперы и балета. Премьеру тогда танцевала Анна Оль, выбранная для заглавной партии самим постановщиком. С 2015 «спектакль-долгожитель прописался и в Уфе. Хореограф Владимир Васильев каждый раз добавляет в текст новые пластические степени и нюансы, расширяя смыслы и значения своей знаменитой работы» [Федоренко Е. Танцы перед саммитом / Е. Федоренко // Культура. – 2015. – №12. – С. 11]. И здесь балет выявил самые сильные актерские стороны исполнителей, позволил расширить контекст восприятия. «Ветреной Анюте – Гузель Сулеймановой, балерине умной и точной, “гордая, свободная, самоуверенная” жизнь пришлась по вкусу, и она существует в ней как рыба в воде. Героиня Гульсины Мавлюкасовой трогательно заигралась в шумном светском веселье – так, что невеселый финал настигает ее врасплох. Когда выброшенный из дома отец (Вячеслав Журавлев) с пронзительно беззащитными детьми провожает закружившуюся в любовной метели Анюту, она забывает о них, как забывают о преданном Фирсе бывшие владельцы вишневого сада» [Там же]. Очевидно, что у каждой артистки – своя трактовка, и зритель вправе выбирать, сочувствовать ему героине или осуждать ее.
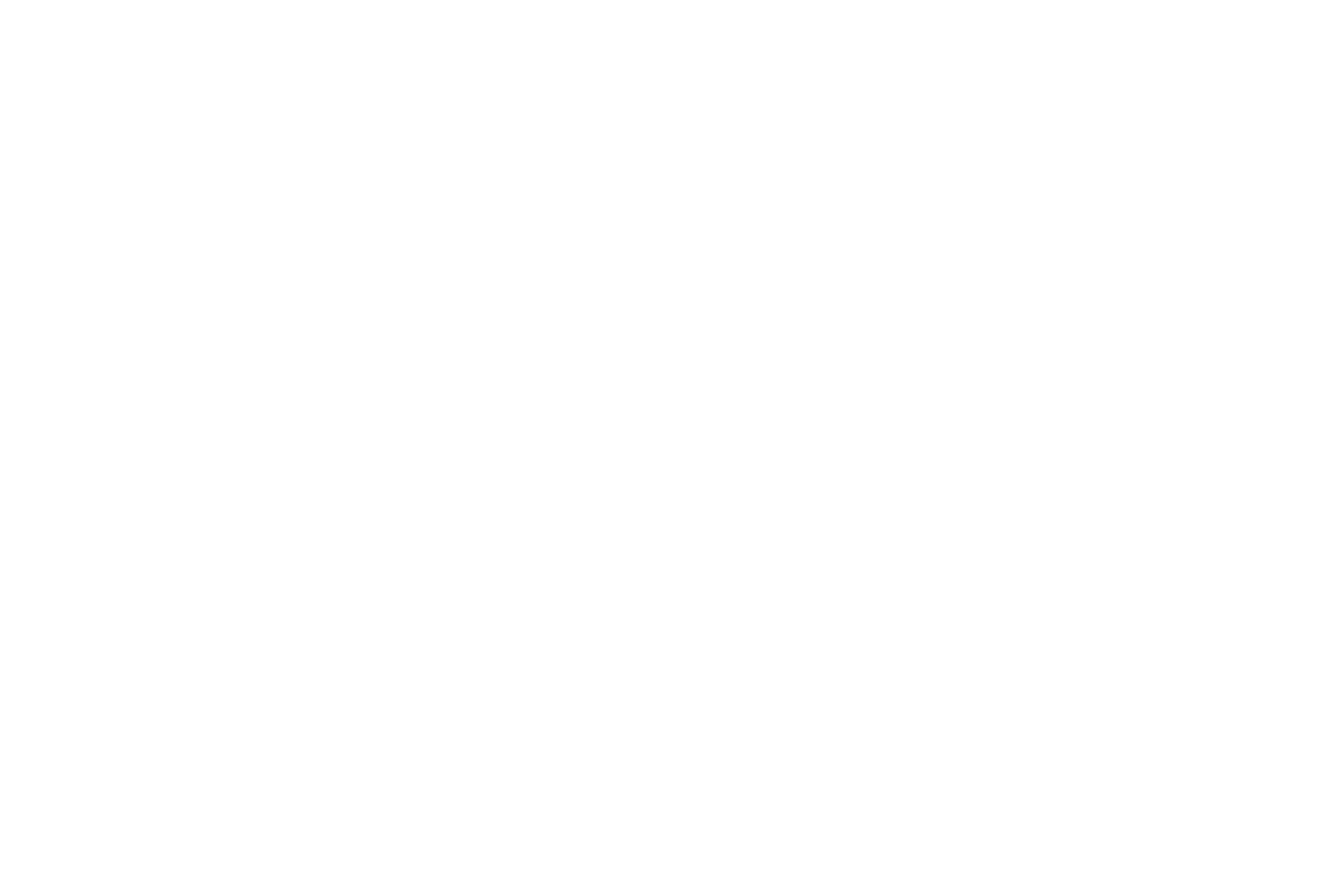
Сегодня балет идет на десятках российских сцен, везде привлекая зрителей. С 2023 года есть своя «Анюта» и в Новосибирске, и в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Новый всплеск интереса к своему творению Владимир Васильев связывает с успехом возобновления (после 6-летнего отсутствия в репертуаре) постановки в Большом театре в июне 2022 года. Успех действительно был – но скорее у публики. Критики отнеслись к спектаклю более сдержанно: сурово отзывались о сценографии Виктора Вольского («фактически повторившего декорации и костюмы первого художника, Беллы Маневич, но сделавшего их “богаче”, точнее, вульгарнее. Из-за яркости рисованного задника ушла поэзия провинциального городка, рюши и бантики на атласных платьях превратили бесхитростных обывательниц в живое воплощение пошлости» [Кузнецова Т. Театр повторного балета / Т. Кузнецова // Коммерсант. – 2022. – №106. – С. 11]), сомневались в точности выбора балерины на заглавную роль («Балерине [Кристине Кретовой] еще предстоит работать над образом и, главное, обрести ту музыкальность и харизматичное обаяние, которые были присущи самой Максимовой» [На Новой сцене Большого театра «капитально возобновили» знаменитый балет Владимира Васильева // Московский комсомолец. – 2022. – 22 июня]).
Интонация сомнения, звучавшая во многих статьях, объясняется просто: сегодня балетный критик (да часто и танцовщик) не верит в актуальность, силу и художественную ценность драмбалета. Но «Анюта» существовала в своем особом жанре уже 30 лет назад, а в наши дни – и подавно. Ее очарование – совсем не в хореографии, и нечего возразить резковатым строкам: «Что касается вальсов, галопов, чиновничьих дефиле и прочих танцев, то простодушие балетмейстера, запросто повторяющего по четыре-восемь раз самые бесхитростные па, по нынешним временам казалось совершенно удивительным» [Кузнецова Т. Театр повторного балета / Т. Кузнецова // Коммерсант. – 2022. – №106. – С. 11].
Интонация сомнения, звучавшая во многих статьях, объясняется просто: сегодня балетный критик (да часто и танцовщик) не верит в актуальность, силу и художественную ценность драмбалета. Но «Анюта» существовала в своем особом жанре уже 30 лет назад, а в наши дни – и подавно. Ее очарование – совсем не в хореографии, и нечего возразить резковатым строкам: «Что касается вальсов, галопов, чиновничьих дефиле и прочих танцев, то простодушие балетмейстера, запросто повторяющего по четыре-восемь раз самые бесхитростные па, по нынешним временам казалось совершенно удивительным» [Кузнецова Т. Театр повторного балета / Т. Кузнецова // Коммерсант. – 2022. – №106. – С. 11].
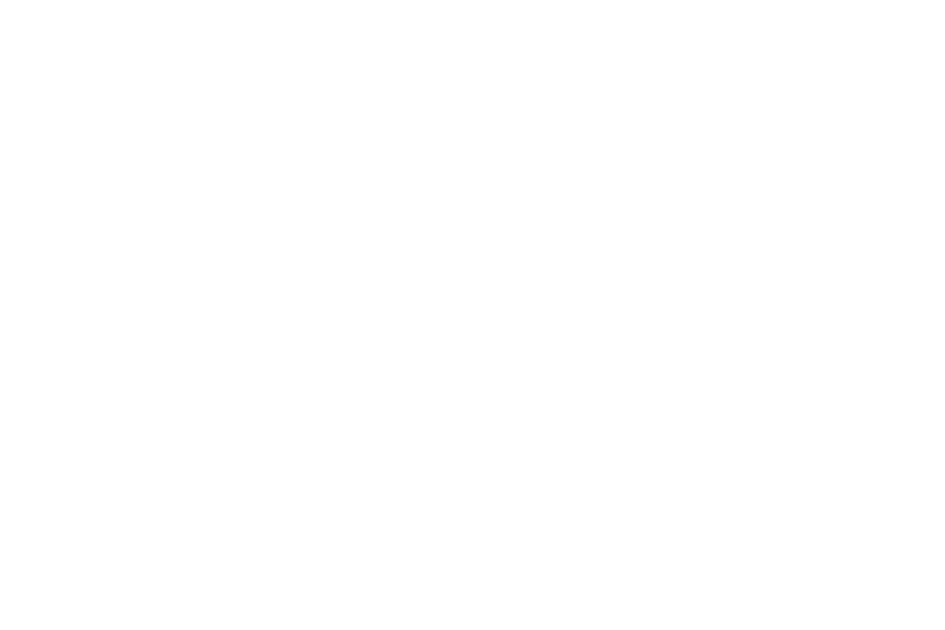
Впрочем, Юлия Непомнящая готова поспорить. «Сложно соединять технику с игрой – состоявшейся балерине с опытом это делать проще. Сегодня я больше проживаю спектакль, а не думаю о технической стороне. Тем более, что Анюта – партия игровая. Да я бы и не сказала, что в этой постановке “делать нечего”. Во-первых, героиня практически не уходит со сцены. Обычно станцевал вариацию – и у тебя есть возможность отдохнуть, а здесь ты все время в образе. Во втором акте в сцене бала моя Аня 20 минут находится в центре внимания, к тому же знаменитая тарантелла не такая уж и простая: в конце есть интересная связка с фуэте и туром пике. Кроме того, героиня переодевается 9 раз – такого нет ни в одном классическом балете!»
Это действительно не привычный зрителю классический балет с пачками и определенным набором узнаваемых жестов. Владимир Васильев давал ему точную характеристику: «Для меня это лирико-драматический спектакль с грустной улыбкой. <…> У каждого здесь есть возможность проявить свои актерские данные и пластически выразить характер того или иного персонажа. Каждый находит для себя что-то новое, свое. “Анюта” очень хорошо собрана драматургически. Здесь точно сделаны все музыкальные фразировки, характеристики. Масса полутонов» [«Анюта» добралась до Новосибирска // Литературная газета. – 2023. – 18 мая].
Это именно то, чего хочется современному зрителю, которому не хватает на сцене задушевности, характеров, сюжета, наконец. Мастеру вторит Юлия Непомнящая: «У меня часто на нынешних постановках не совпадает музыкальное сопровождение с тем, что я вижу. Это выбивает из колеи. А в “Анюте” все продумано, понятно, логично, гармонично, в этом балете есть целостность и красивейшая музыка. Публике необходимо понимать суть. Хочешь увидеть набор движений и оточенную технику – сходи на класс. А мы ждем спектакля». Такого, о каком справедливо писал критик: «Единство слова, музыки, хореографии, оформления и исполнительства дало в балете “Анюта” тот эффект подлинности и возвышающей правды жизни, той радости и надежды, которыми одаривает настоящее, большое искусство» [Самсонова С. Знакомьтесь: «Анюта» / С. Самсонова // Правда. – 16 июня 1986]. Мы все соскучились по этому большому искусству, уж верно заключающемуся не только в умении виртуозно исполнить фуэте. А потому не стоит удивляться такой долгой и счастливой судьбе постановки Владимира Васильева, по-прежнему горячо любимой людьми во многих городах нашей литературоцентричной страны.
Это действительно не привычный зрителю классический балет с пачками и определенным набором узнаваемых жестов. Владимир Васильев давал ему точную характеристику: «Для меня это лирико-драматический спектакль с грустной улыбкой. <…> У каждого здесь есть возможность проявить свои актерские данные и пластически выразить характер того или иного персонажа. Каждый находит для себя что-то новое, свое. “Анюта” очень хорошо собрана драматургически. Здесь точно сделаны все музыкальные фразировки, характеристики. Масса полутонов» [«Анюта» добралась до Новосибирска // Литературная газета. – 2023. – 18 мая].
Это именно то, чего хочется современному зрителю, которому не хватает на сцене задушевности, характеров, сюжета, наконец. Мастеру вторит Юлия Непомнящая: «У меня часто на нынешних постановках не совпадает музыкальное сопровождение с тем, что я вижу. Это выбивает из колеи. А в “Анюте” все продумано, понятно, логично, гармонично, в этом балете есть целостность и красивейшая музыка. Публике необходимо понимать суть. Хочешь увидеть набор движений и оточенную технику – сходи на класс. А мы ждем спектакля». Такого, о каком справедливо писал критик: «Единство слова, музыки, хореографии, оформления и исполнительства дало в балете “Анюта” тот эффект подлинности и возвышающей правды жизни, той радости и надежды, которыми одаривает настоящее, большое искусство» [Самсонова С. Знакомьтесь: «Анюта» / С. Самсонова // Правда. – 16 июня 1986]. Мы все соскучились по этому большому искусству, уж верно заключающемуся не только в умении виртуозно исполнить фуэте. А потому не стоит удивляться такой долгой и счастливой судьбе постановки Владимира Васильева, по-прежнему горячо любимой людьми во многих городах нашей литературоцентричной страны.
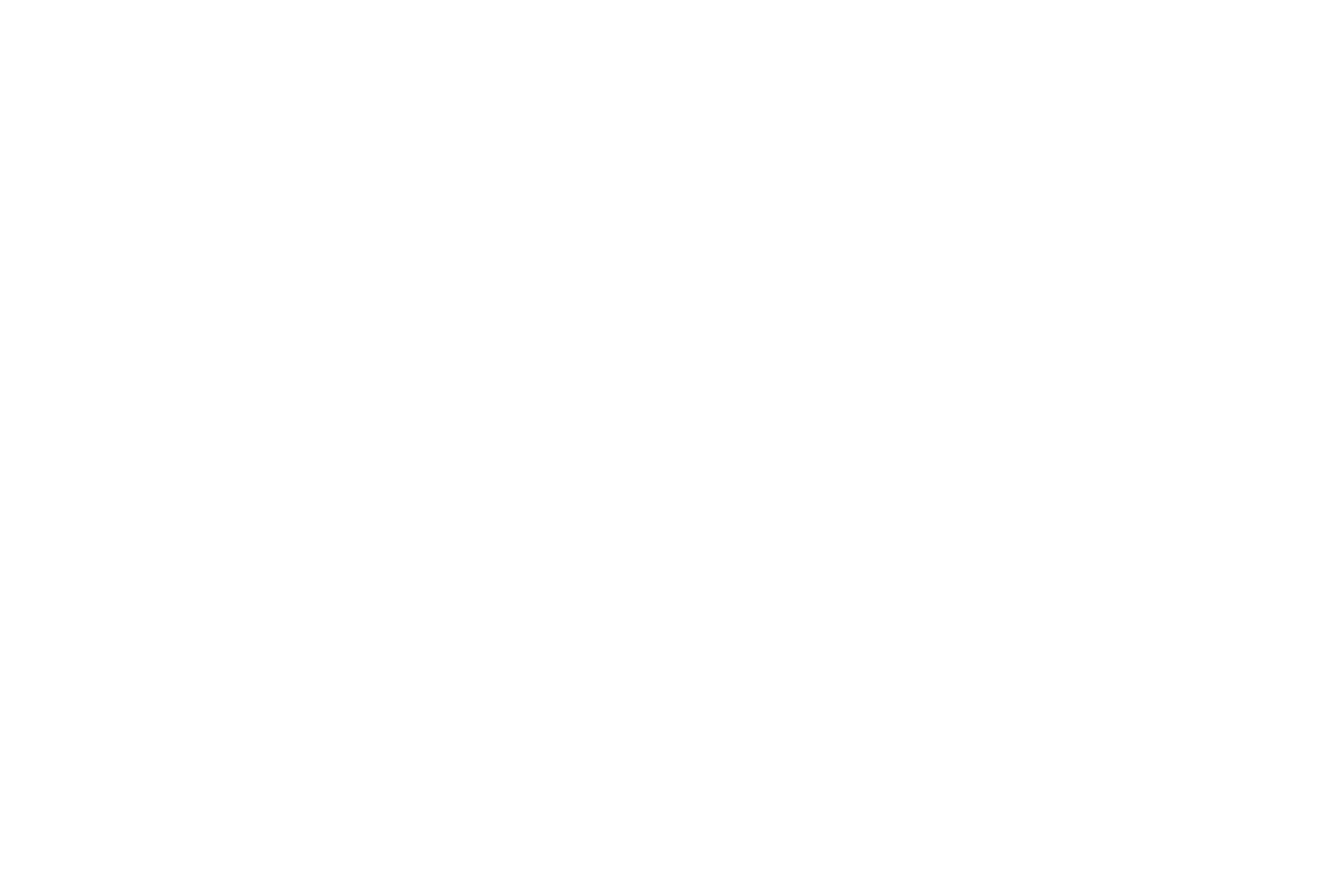
Дарья Семёнова
В статье использованы фото из балета «Анюта» Башкирского государственного театра оперы и балета, Воронежского театра оперы и балета (в заглавной партии Юлия Непомнящая), Большого театра (возобновление 2023 года)
В статье использованы фото из балета «Анюта» Башкирского государственного театра оперы и балета, Воронежского театра оперы и балета (в заглавной партии Юлия Непомнящая), Большого театра (возобновление 2023 года)

